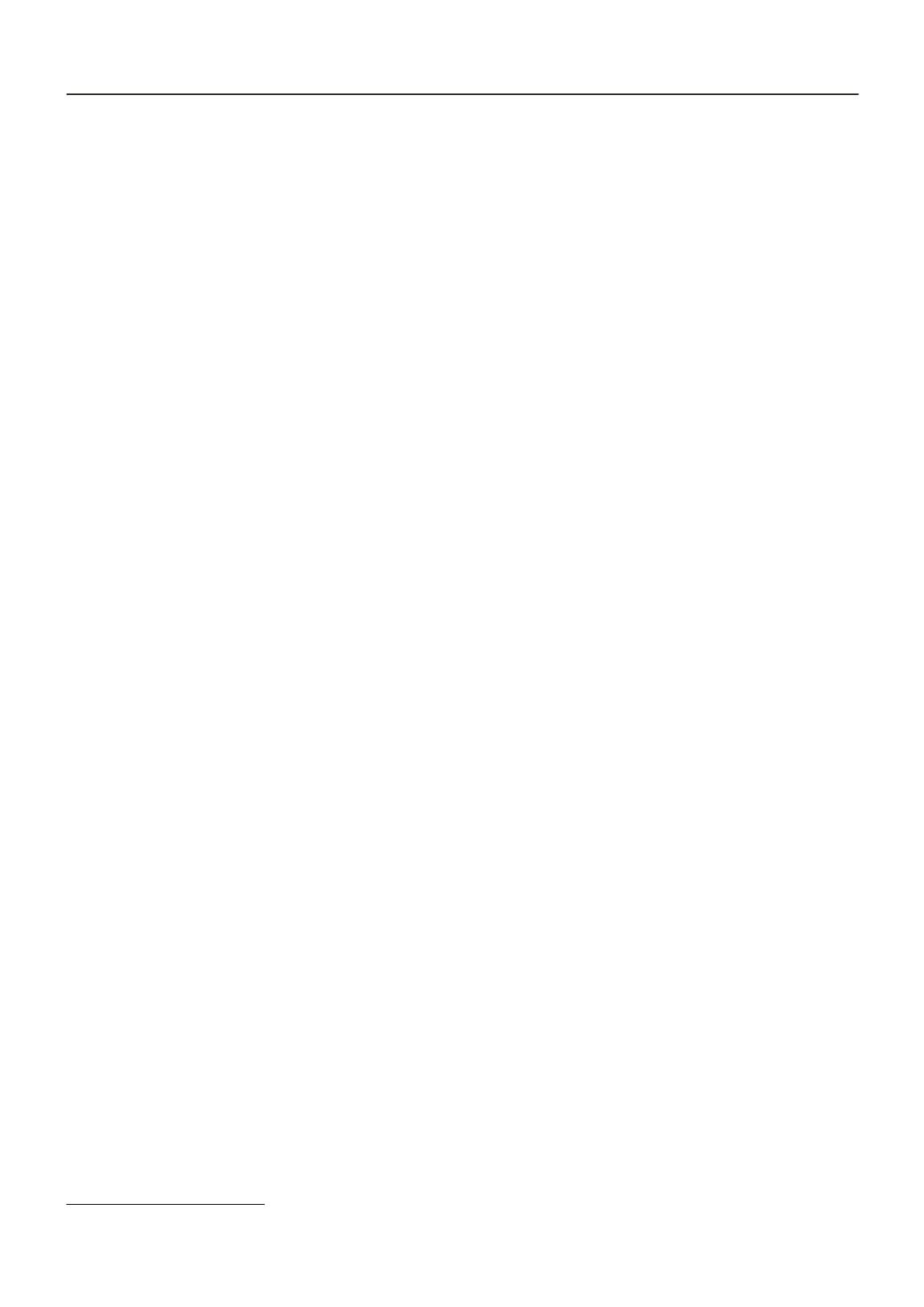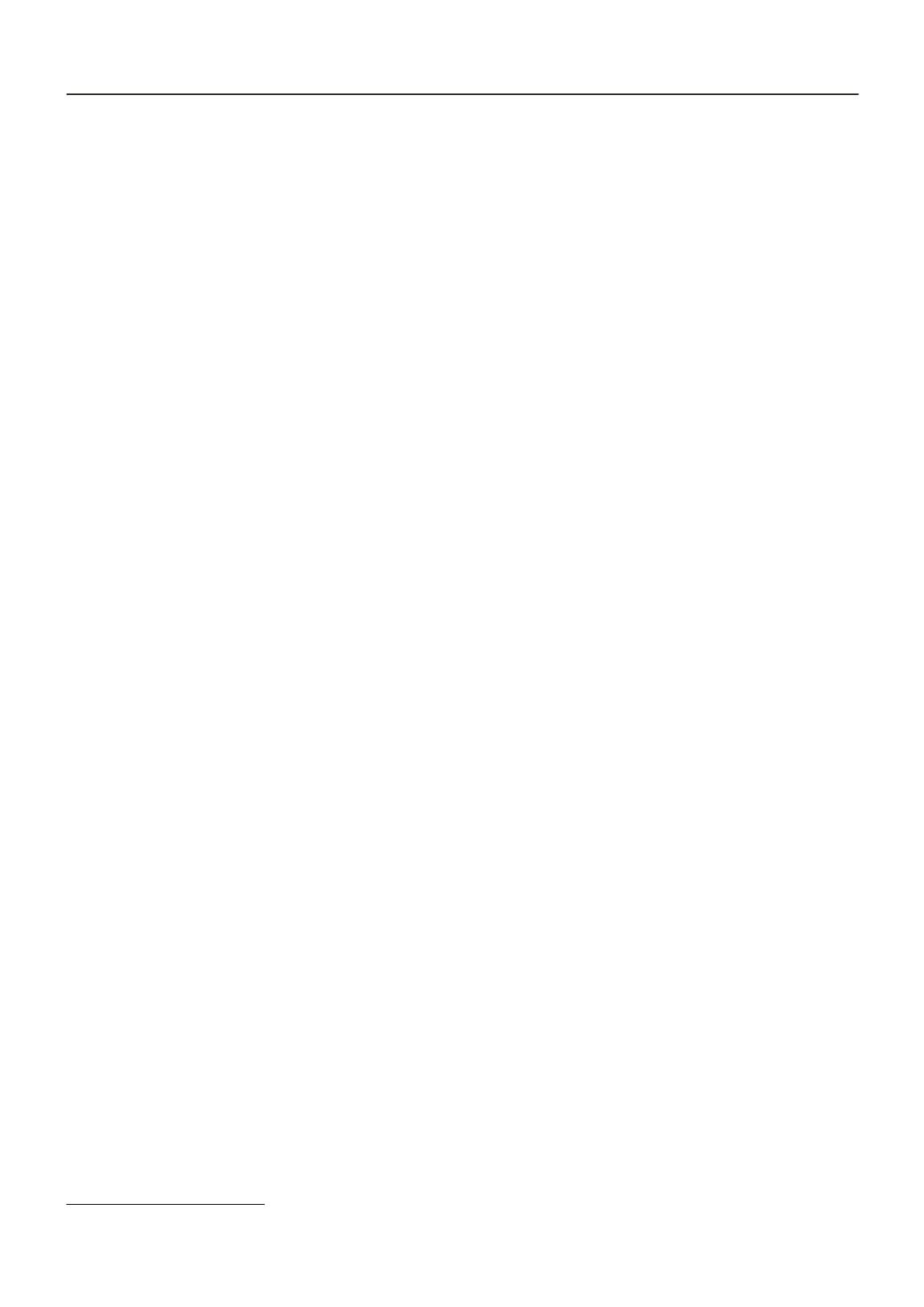
№
1. 2016 г.
Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация»
42
Реакции горя протекают по-разному в зависимо-
сти от особенностей личности, ее характерологиче-
ского склада. При первом типе реакций состояние
человека характеризуется мучительным ощущением
тяжести утраты, неотвязными воспоминаниями об
умершем, безудержной слезливостью, нарушениями
сна, функциональными соматическими расстрой-
ствами. Второй тип реакций – депрессивный невроз
с упорными расстройствами сна, снижением актив-
ности, склонностью к самообвинениям и самоуни-
жению, а также обвинению окружающих, тенденци-
ей сетовать на обстоятельства. Эти состояния длятся
до нескольких месяцев и имеют тенденцию к угаса-
нию, но легко «оживают» и усиливаются при «ожив-
лении» переживаний в памяти. Состояния обнару-
живались у старых и пожилых людей без патологиче-
ского склада характера. Третий тип реакций наблю-
дался у людей с чертами психопатического, истери-
ческого склада, эгоцентризма. После кратковремен-
ного шока отмечались истероподобные расстройства
и сверхценный «культ» близкого человека и его
памяти, которому подчинялся весь уклад жизни.
Кроме эгоцентрических реакций («Как я теперь буду
жить!») и трансляции исключительности своих стра-
даний имеют место обвинительно-разоблачительные
реакции. Продуктивны изменения стиля жизни с
установкой на занятость и заботу о других, включе-
ние в волонтерскую помощь, служение.
Важно учитывать, что изолированность, рожден-
ная физической немощью и/или потерей друзей и
близких, часто порождает у престарелых и умираю-
щих людей гнев и разочарование, депрессию и пода-
вленность, при которых мир сужается и укорачивает-
ся. однако одновременно запертый в одной комнате
или даже на одной кровати человек начинает осозна-
вать окружающий мир и себя. Вместе со старостью
приходит и общее ощущение беспочвенности, безза-
щитности, страх смерти и неуверенность сжимают и
уплотняют мир человека, поэтому люди становятся
чрезвычайно привязаны к своей мелочной рутине, к
становящимися ригидными представлениям о том,
какими должны быть вещи. Количество и интенсив-
ность страховподчас серьезно возрастает. Дж. Диггори
и Д. Ротман пишут, что список распространенных
страхов, связанных со смертью, если их расположить
в порядке уменьшения частоты, выглядит так: страх
причинить боль, горе родным и друзьям; страх кру-
шения собственных планов; страх мучительности
смерти; страх потери мира и себя; страх потери кон-
троля и заботы; страх неизвестности при «жизни
после смерти»; страх разрушения тела после смерти».
Некоторые из этих страхов, как видно, не имеют пря-
мого отношения к личной смерти. Страх боли распо-
лагается «по эту сторону» смерти; страх посмертной
жизни уменьшает значимость смерти как «конечного
события», итога; страх за других — относится к отно-
шениям и судьбам окружающих, заботе о них, реже
это страх, связанный с гордыней и ревностью [55].
Поэтому Ж. Хорон различает три типа страхов смер-
ти: 1) страх того, что наступит после смерти; 2) страх
самого «события» умирания; 3) страх прекращения
бытия. Первые два из них— страхи того, что связано
со смертью. Третий, страх «прекращения бытия»,
личного исчезновения (уничтожения, исчезновения,
аннигиляции) — суть беспокойства смерти: «Моим
планам и начинаниям придет конец» и «Я уже не
смогу ничего ощущать» [49; 54]. Люди испытывают
ужас (или тревогу) в связи с перспективой потерять
себя и стать не просто никем, но и – ничем. Эта тре-
вога не может быть локализована и помещена в
какой-то один возрастной период или тип ситуаций.
Она атакует человека со всех сторон и одновременно.
Бороться с тревогой можно, лишь перемещая ее от
ужаса «ничто» к более понятному и менее опасному
«нечто». «Для психотерапии реальность смерти зна-
чима в двух отношениях. Сознавание смерти может
работать как «пограничная ситуация» и радикальным
образом изменить взгляд на жизнь…» – пишет
И. Ялом [49]. «Пограничная ситуация» — это собы-
тие, трансординарный или чрезвычайный опыт, при-
водящий человека к конфронтации с привычной ему
реальностью и его экзистенциальной «ситуацией» в
мире. Сознавание смерти выводит эгоцентричное
сознание из поглощенности тривиальным, придавая
жизни глубину, остроту и совершенно иную перспек-
тиву, – к сознанию космическому или «хотя бы»
человеческому, к пониманию человеческого как теле-
ологического единства души и сознания, духа и нрав-
ственности, тела и нужд (потребностей). Однако здесь
существует одно важное различие. Выбор «умереть», в
отличие от «не жить», несет в себе интенцию самоосу-
ществления человека. «Не жить» – обычно неудачная
и отражающая личностную незрелость попытка избе-
жать выбора и игнорировать реальность смерти как
выбор другого человека как автономного существа,
имеющего на это право и принимающего его с созна-
нием своей ответственности и необратимости послед-
ствий. В любом случае смерть человека приоткрывает
завесу над тем, что действительно представляют собой
и он сам, и окружающие его люди. Как отмечают
Э. Кэсон и В. Томпсон, специалист хотя и обладает
некоторым знакомством с этими фактами, но нужда-
ется в настоящем понимании – раскрытии сути уми-
рания и старения в подлинных и реальных взаимоот-
ношениях. «Чувство смертности, общее для нас с
клиентом, освобождает нас от мелких забот и навяз-
чивых мыслей, которые есть у нас обоих. Знание
этого факта позволяет нам прикасаться к жизни дру-
гих людей с чувством некоторой общности с ними»
[23, с. 298, 302].
Психологическая помощь престарелым может и
должна быть направлена на развитие: компенсация
потерь, утешение и жалось к пожилым и старым
людям, отстаивание их прав, хотя и привлекательны