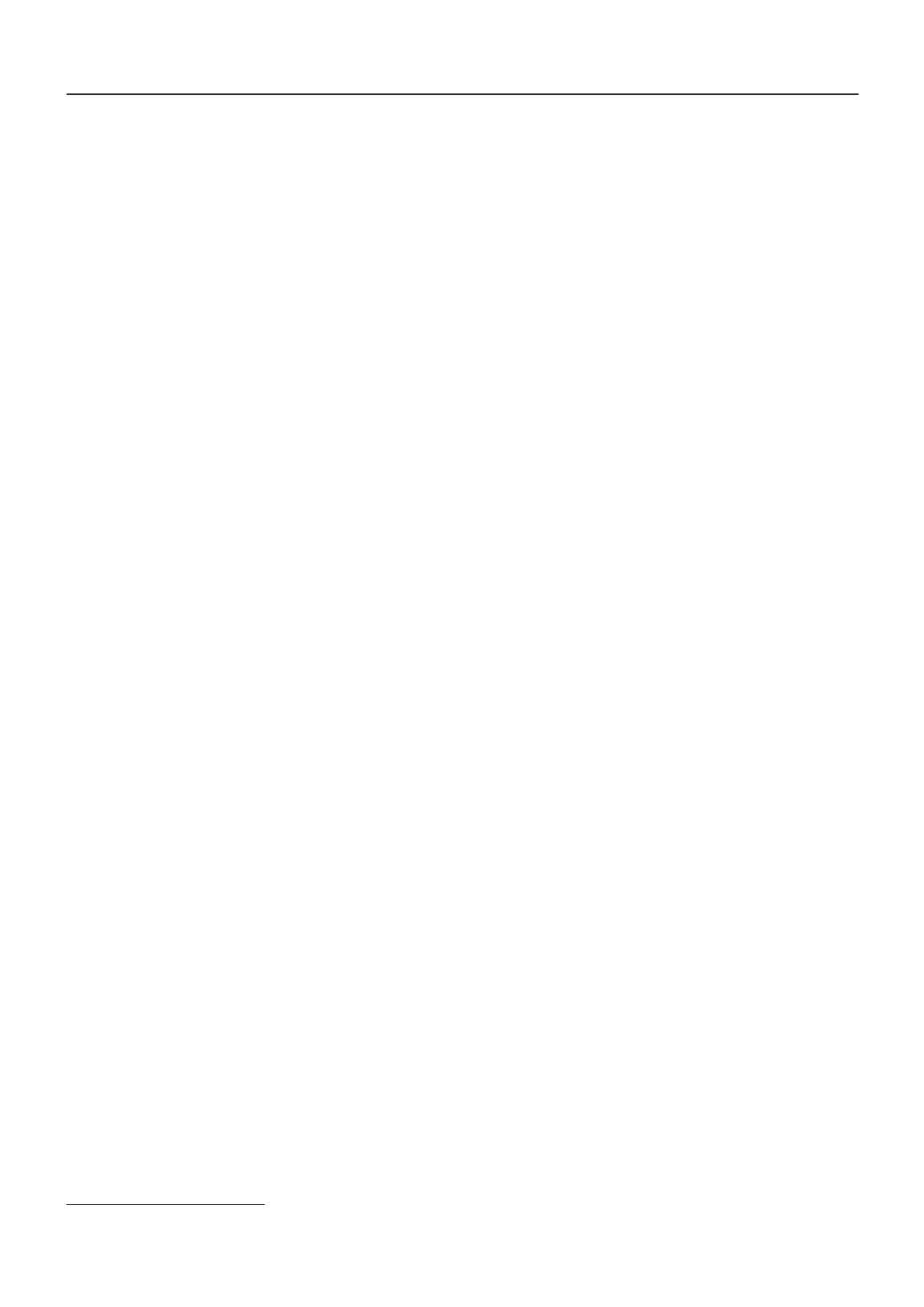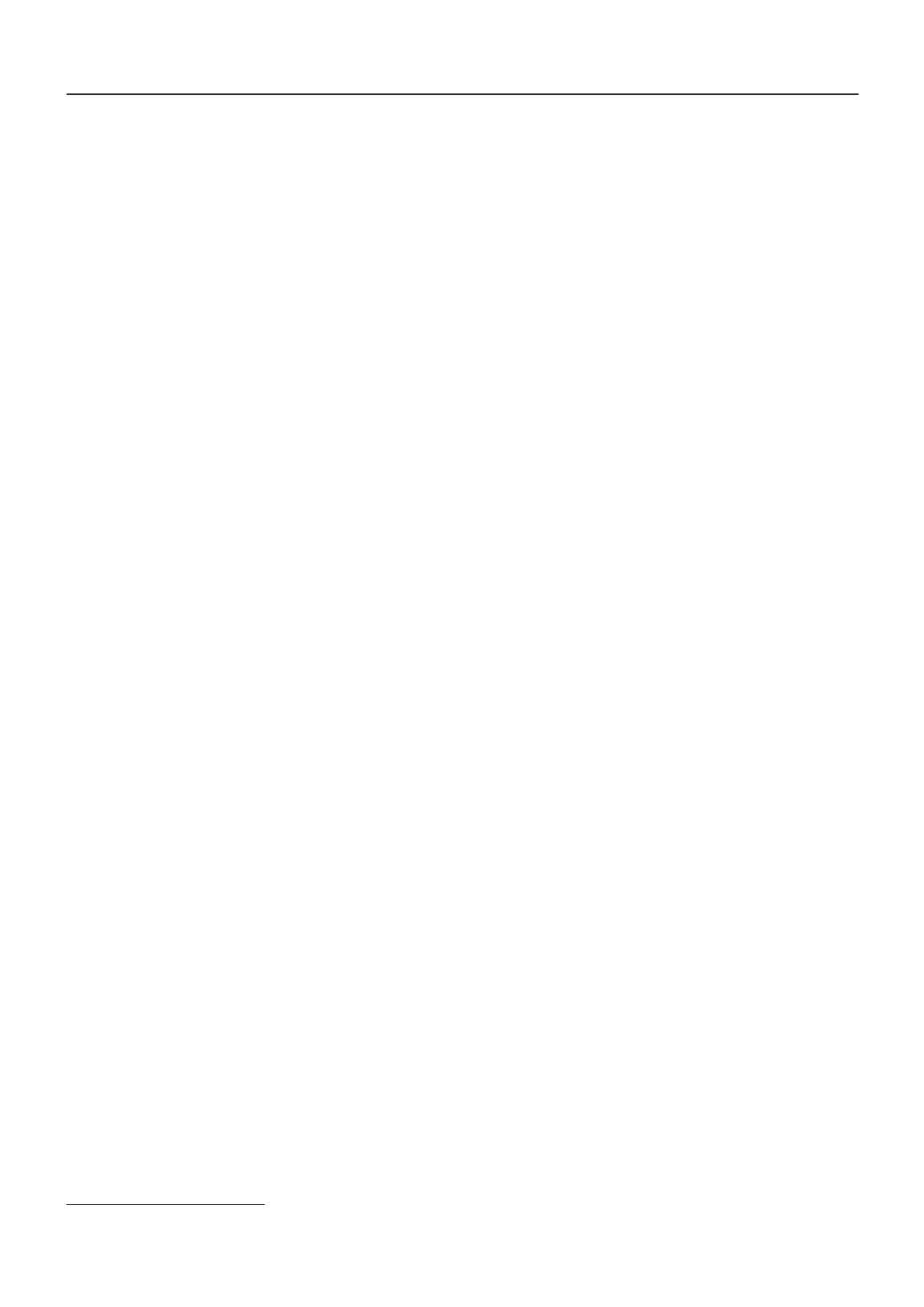
№
1. 2016 г.
Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация»
52
Еще один аспект работы представлен оказанием
психологической поддержки близким стареющего
или умирающего/умершего человека. Центральным
понятием переживания смерти близкого человека
является понятие «горя» или «острого горя».
Э. Линдеманн отмечал, что состояние острого горя
представляет собой синдром с определенной психо-
логической и соматической симптоматикой, возни-
кая сразу же после какого-либо кризиса, чрезвычай-
ной ситуации – синдромом горя [27]. Горе — не про-
сто естественная реакция на потерю, но необходимый
способ адаптации к ситуации, формирования здоро-
вого отношения к происходящему. Согласно
Ф.Е. Василюку, горе – конституирующий антрополо-
гический феномен: на психологическом уровне
«главные акты мистерии горя – не отрыв энергии от
утраченного объекта, а устроение образа этого объек-
та для сохранения в памяти. Человеческое горе не
деструктивно (забыть, оторвать, отделиться), а кон-
структивно, оно призвано не разбрасывать, а соби-
рать, не уничтожать, а творить – творить память».
К смерти мы относимся двойственно. С одной сторо-
ны, мы ее боимся, с другой стороны, стремимся к
ней. Страх смерти и стремление к ней постоянно
сталкиваются, ибо боязнь терзает человека, а жажда
смерти подсказывает, что, умирая, мы разом избавля-
емся от всех земных забот» [9; с. 9-10; 10, с. 234-235].
В зарубежных исследованиях горе делится на пато-
логическое и нормальное, «отложенное» и «предвос-
хищающее», разрабатываются техники психотерапии
и взаимопомощи пожилых вдов и вдовцов, изучают-
ся синдромы горевания по поводу внезапной смерти,
и т.д., многие из которых основаны на схеме
З. Фрейда [38]. «Работа печали» состоит в том, чтобы
оторвать «психическую энергию» от любимого, но
утраченного объекта. До конца этой работы «объект
продолжает существовать психически», а по ее завер-
шении человек становится свободным от привязан-
ности и может направлять высвободившуюся энер-
гию на другие объекты. Среди задач работы горя
называются: «принять реальность утраты», «пере-
жить боль», «приспособиться к действительности»,
«вернуть энергию», «перенаправить энергию» в иные
отношения. Но, как отмечает Ф.Е. Василюк, всегда
остается вопрос памяти как сущностной части чело-
веческого горя [10; 53; 59; 60; 63]. Может быть выде-
лено два основных личностных типа реагирования
на пережитой шок потери или шок умирания.
Первый – прошлое или переживание шока не отпу-
скают человека, навязчиво и неотступно возвраща-
ются травматизирующие картины, постоянные
мысли о том, «что было» или «что будет». Второе –
человек старается избегать мыслей и воспоминаний
о пережитом. Однако трансординарное существова-
ние все больше вторгается в ординарное существова-
ние, наделяя его чертами аномальности, катастро-
фичности: «Угроза небытия становится неспецифич-
ной характеристикой не только экстремальной ситу-
ации, но и обыденной жизненной ситуации и опре-
деляет существование человека» [28]. Следствиями
становятся тяжело переживаемые утраты способно-
сти, полностью или частично, устанавливать близкие
и дружеские отношения с окружающими людьми,
реже возникают или исчезают периоды творческого
подъема и переживания любви и счастья, охватывает
чувство разъединенности, отчужденности от окружа-
ющего мира. Человек переживает собственную изме-
ненность, чуждость самому себе и другим людям.
Признаки выздоровления – способность адресовать
большую часть переживаний не умершему, а событи-
ям повседневной жизни, способность говорить о нем
без сильной боли – «экологичная инкорпорация зна-
чимой утраты в психологическое пространство субъ-
екта», адаптация к «новой» жизни, жизни без умер-
шего [10; 63].
В этом контексте часто возникает необходи-
мость психологического дебрифинга – специаль-
ным образом организованного процесса диалоги-
ческого, ценностно-смыслового взаимодействия
индивидов и групп по поводу исследования и
решения проблем функционирования и развития в
трансординарном состоянии [28; 35; 36]. Группа
становится местом для общения, доверия и чувства
безопасности, а также – восстановления внутрен-
него порядка и нахождения новой идентичности
(до или после потери, а также – перед смертью).
Дебрифинг содержит как основные элементы вер-
бализацию, направленную на активное пережива-
ние (ре-переживание, переосмысление) разных
аспектов пережитого события, на исследование
травматических переживаний в контексте поощря-
ющей (подтверждающей) и защищающей группо-
вой поддержки, на «нормализацию» реакций,
включая переживание и понимание происходяще-
го и стимулирование осмысления переживаний (на
когнитивном уровне), информирование о вариан-
тах психологического реагирования после потери
или информации об угрозе смерти, то есть, по
сути, – обучение способам осмысления травмиру-
ющей ситуации, самого дебрифинга и их послед-
ствий. Происходит «закрытие прошлого» как под-
ведение итога (итогового смысла) пережитого, воз-
никает «новое начало», предполагающее творче-
ское использование опыта смерти и потерь в даль-
нейшей жизни в процессе развития понимания
человекомсебя имира [36; 57; 61]. Психологический
дебрифинг может быть весьма продуктивен в ситу-
ации работы с людьми, переживающими столкно-
вение со смертью в одиночестве, а также при его
использовании как методики вторичной помощи –
сотрудникам медицинских и социальных центров,
работающим с умирающими и горюющими. При
использовании дебрифинга важно учитывать
настрой клиента, его готовность к интенсивной