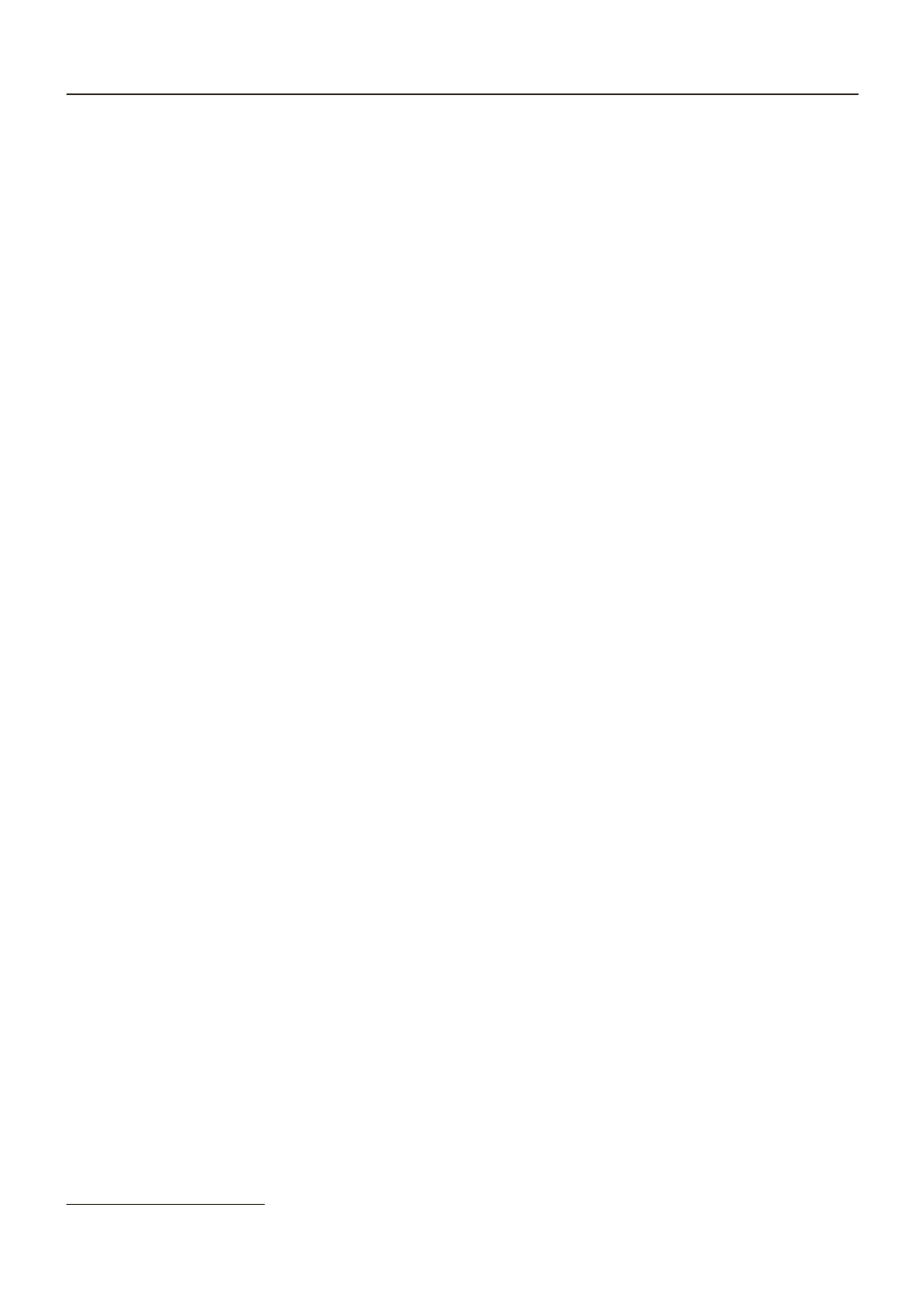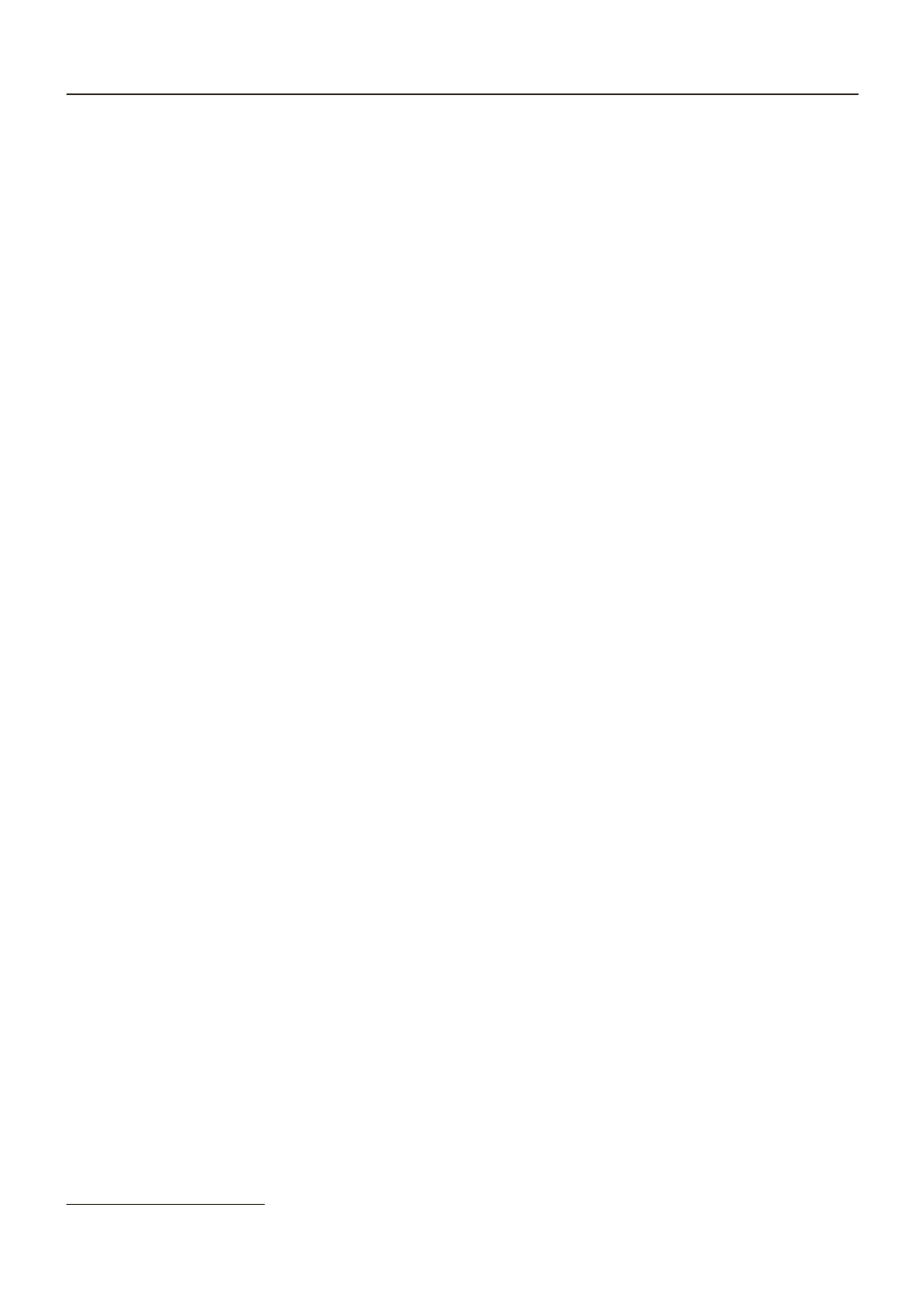
№
1. 2016 г.
Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация»
40
смерти родного, близкого человека. К нему сводятся
и неврозы, возникающие в военные годы, неврозы
после катастроф и терактов: «военные неврозы»,
«неврозы Хиросимы», ПТСД и т.д. Выжившие в
войну люди почти всегда чувствуют вину перед
погибшими» которые умерли «вместо них». Именно
это и отличает человека, видевшего, как на войне
убивают людей, от других людей, не переживших все
ужасы войны. Это нельзя по большому счету «выле-
чить однако можно трансформировать так, чтобы
человек мог нормально существовать, получив «раз-
решение» наслаждаться жизнью. При старении «вина
выжившего» менее выражена, однако часто возника-
ет другой вопрос: человек, «переживший» других,
остается один: сверстники как необходимый компо-
нент развития в любом возрасте могут практически
исчезнуть. «Одиночество» такого рода весьма тяжело
переживается постольку, поскольку обеднены кон-
такты пожилых людей с миром, однообразны и
поверхностны связи с другими людьми и (квази)
профессиональной деятельностью, нет чувства при-
надлежности и нужности в других сферах [47; 51; 52].
В целом наличие свободного, хотя и трудного
выбора позволяет характеризовать старость как воз-
раст развития, возраст потенциальных возможно-
стей, витаукта, который дает шанс противостояния
тотальному угасанию [17; 40]. Итоговый выбор каж-
дого человека определяется особенностями решения
им задачи на смысл — смысл оставшейся жизни.
Структура этого смысла воплощается в картине и
динамике переживаний по поводу жизни и смерти, а
также – в воспоминаниях о прожитой жизни и планах
на будущее. Типичные смыслы жизни в предпенси-
онном возрасте таковы: его отрицание («надуманное
понятие»), в том числе как отождествление с жизнью
(«нет другого смысла, кроме самой жизни»); сужение,
угасание смысла жизни, стремление выжить, сохра-
нить свое здоровье, осознание факта сужения смысла
жизни, видение тупика и незнание путей выхода из
него. Те, кто отличается расширением, обогащением
жизни новыми «малыми» смыслами, поднятием
смысла жизни на новые высоты, ориентируются на
иное: служение высокой идее (добру, Богу и т.д.),
служение Отечеству, борьба за социальную справед-
ливость, стремление жить для людей, забота о детях,
защита детей, реализация созидательных, творческих
функций и забота о сохранении саморазвития.
«Справившись с потерями, человек может придать
новое значение своей жизни в изменившихся услови-
ях, — пишет Г.М. Брюгман, — эта реконструкция
жизненных значений (смыслов) может рассматри-
ваться как важная, а возможно, и самая важная задача
развития в пожилом возрасте» [8, с. 132]. Однако
подобная жизнестойкость – не единственный путь
продуктивной жизнедеятельности и развития в пожи-
лом и старческом возрасте. Продуктивен подход,
который говорит, что старение как созревание орга-
низма предъявляет особые требования к нагрузке на
человека: чем старше человек, больше его жизненный
опыт и более развиты его таланты, тем большую
нагрузку он может и должен на себе нести.
Долгожители не только оптимистичны, полны сил,
имеют цели и гармонично относятся к себе и миру,
они вышли за порог необходимости оптимизма, сил и
гармонии, их отношение к смерти включилось в
отношение к жизни. Не случайно у йогов и предста-
вителей иных философско-религиозных школ суще-
ствует понятие «смерть при жизни», которая прирав-
нивается к святости как движению в потоке бытия.
Они не заботятся о накоплениях и власти, о семье и
компании, доме и защищенности. Интересно отме-
тить в связи с этим, что старые и пожилые люди выде-
ленных двух групп также могут быть описаны как
люди зрелые и незрелые, то есть готовые и неготовые
решать задачи своего возраста: 1) молодящиеся, не
желающие «сдавать позиции», называться «бабушка
или «дедушка» и «возиться с внуками», бегущие от
старения и смерти всеми понятными им способами;
2) спокойно двигающиеся в поле возрастных задач и
принимающие старение и смерть как своих «друзей»
[4; 15; 34; 42].
Обычно, думая о старости и смерти, люди полага-
ют, что этих переживаний они еще не имеют.
Смерть – это что-то такое, что еще должно когда-то
прийти, таинственное, но далекое. Однако смерть
всегда рядом: постоянно присутствующие психоло-
гические переживания разбитости и измученности,
потеря свежести переживаний и скука – безнадеж-
ность и бессмысленность – обозначают старость,
потеря молодости и здоровья, крушение надежд и
достижение значимых целей, разводы и иные формы
отделения от любимых людей, мест или вещей – обо-
значают и смерть. В. Янкелевич [50, с. 179] отмечает:
«Время жизни, одновременно созидательное и разру-
шительное, не является ни простым процессом, ни
простым регрессом: непрерывное уменьшение воз-
можностей осложняет бесконечный процесс попол-
нения… регресс уравновешивает прогресс и нейтра-
лизует его завоевания».
Подсчитывать свои сокровища, ресурсы, связи и
надежды – еще один, помимо осознания, механизм
изменения, активизируемый конфронтацией со
смертью. Проблема людей, боящихся жить и уме-
реть, состоит в сомнениях по поводу своей безопас-
ности и стремлении укреплять и расширять «защит-
ные ограждении»: защищая не только ядро своего
существа, но и его характеристики и «дополнения»
(работу и престиж, семью и привлекательность,
таланты и возможности, а также – неуспехи и огра-
ничения, т.д.). Многие люди испытывают чрезмер-
ный стресс, когда под угрозой оказывается даже одно
из этих «дополнений». Поэтому психотерапевт помо-
гает им понять: «Вы — это ваша сущность. …другие
вещи могут исчезнуть, а вы по-прежнему будете